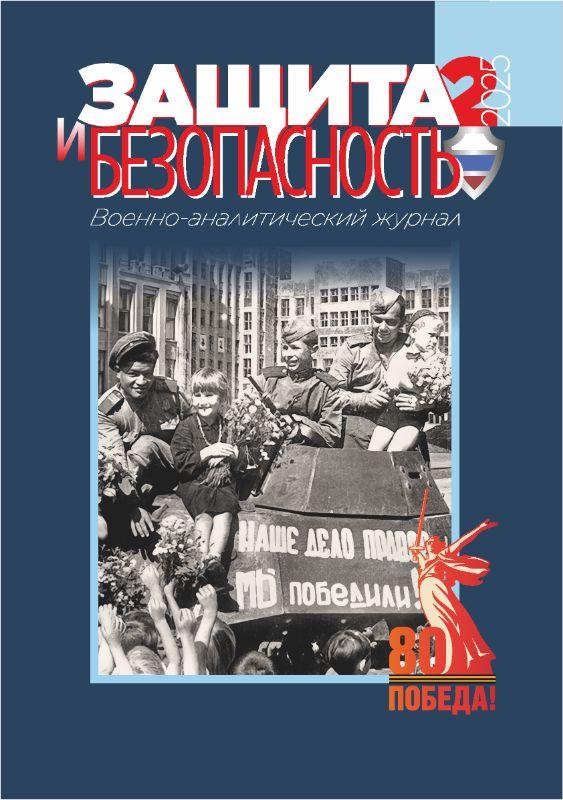Уроки кануна Второй мировой войны (стр. 36-38)
Аннотация:
Военный историк, автор монографии «Последний очаг Второй мировой», обращает внимание на то, что по сути Вторая мировая война началась с агрессии не Германии, а Японии на Дальнем Востоке, к которой страны Запада отнеслись с удивительной толерантностью. Так же как и к последующему аншлюсу Австрии и оккупации Чехословакии Германией, ставшими возможными благодаря подписанию Мюнхенских соглашений. Больше того, страны Запада и прежде всего США вкладывали сотни миллионов долларов в военную промышленность стран-агрессоров. Мюнхенская политика «умиротворения агрессора» в надежде на то, что он покончит с существованием СССР, в результате которой мир сотрясла самая кровопролитная из всех войн человечества, как дежавю, повторяется сегодня в политике стран блока НАТО. Как и в 30-х годах, расшатывается система сдержек и противовесов зачинщикам войн, под какими бы благовидными предлогами они ни играли военными мускулами. Вполне предсказуемый отказ правительств Югославии, Ирака, Ливии, Сирии от фактической передачи бразд правления силам Альянса стало поводом для применения против них военной машины – вопреки всем международным нормам и соглашениям. Если говорить о внешнеполитической стратегии нашей страны, то с учетом уроков Второй мировой она должна проявляться в выверенных многовекторных усилиях, направленных на недопустимость втягивания России и мирового сообщества в Третью мировую войну.
Читать всю статьюПервый в чем-то оправданный, но далеко не создающий целостной картины. Это — европоцентристский подход, который рассматривает гитлеровскую Германию в качестве главного виновника1 развязывания Второй мировой войны.
Действительно, нацистский режим принес неисчислимые бедствия народам Европы и, в первую очередь, советскому народу, потерявшему в войне более 26 млн человек. Но при этом забывается, что первые очаги грядущей ВМВ были разожжены Японией на Дальнем Востоке, причем еще до прихода к власти Гитлера в Германии и развертывания им агрессии в Европе.
Второй подход, присущий западной историографии, основан на концепции идеологического противоборства. Согласно сторонникам соответствующих теорий в предвоенный период существовала серьезная угроза насильственного распространения коммунизма и западные демократии были вынуждены противодействовать этому. При этом ряд ученых уверены в совиновности СССР в развязывании ВМВ, что обосновывается подписание Советско–Германского Договора о ненападении 1939 г., а также аннексией Советским Союзом восточных воеводств Польши, а затем и некоторых других ранее принадлежавших России территорий.
Одной из субъективных причин распространенности названных подходов следует считать недооценку сложности воздействия на военно-политическую обстановку тех лет всей совокупности факторов, в том числе провокационной, подстрекательской в отношение агрессоров деятельности Запада, ее существенного влияния на принятие решений советским руководством.
Конечно, Великая Октябрьская революция, 100-летие которой отмечается в нынешнем году, привнесла классово-идеологический фактор в характер угроз и подходы к их оценке. «Если раньше, — отмечено в фундаментальном труде «Мировые войны», — Россия была вынуждена вести войны… против одной или нескольких великих держав, то в межвоенный период впервые возникла реальная угроза их совместного похода против СССР. Страна оказалась в положении осажденной крепости, и важнейшая задача советской внешней политики состояла в том, чтобы разобщить силы могущественных противников, найти союзников, не допустить или максимально отдалить втягивание страны в войну».
Сказанное можно считать отчасти правильным, однако, лишь отчасти. Ведь в канун и в начале ВМВ в политике основных государства-агрессоров как в Европе, так и в Азии во главу угла ставилась (особенно с 1939 г.) реализация не столько идеологических, сколько геополитических, геоэкономических и геостратегических интересов в зонах своего влияния и в мире в целом, что очень похоже на действия современных агрессивных государств.
Обстановка в то время, действительно, была сложной и запутанной. Ошибались все: и коммунистический Советский Союз, и демократические страны Запада. Что касается СССР, то вспомним, во-первых, что в самом начале 30-х, когда Гитлер еще только рвался к власти, японские милитаристы уже приступили в Маньчжурии к реализации грандиозных планов завоевания мирового господства, согласно которым одним из объектов агрессии являлся Советский Союз. Приведу короткий фрагмент меморандум премьер-министра, министра иностранных дел и колоний Японии генерала Г. Танаки от 25 июля 1927 года, адресованный императору Хирохито, о содержании которого советское руководство узнало в августе того года: «Япония должна завоевать мир, а для этого она должна завоевать Европу и Азию, и в первую очередь Китай и СССР».
Именно Япония в соответствии с меморандумом Танаки разожгла в Китае в 1931 — 1937 гг. первые очаги всепланетарного пожара, который с 1 сентября 1939 г., когда Германия напала на Польшу, стали называть Второй мировой войной. Главнокомандующий Квантунской группировкой японских войск О. Ямада, называвший антисоветскую политику Японии «последовательной», подтверждал, что его войска имели в те годы «конкретные планы ведения наступательных военных операций против Советского Союза».
Японские агрессоры, как позже Германия, подразумевали неизбежность и необходимость «скрестить мечи с Россией» для достижения своих целей. Если не учитывать пропагандистской риторики, эта стратегия не была идеологически прямолинейной, а являлась, как им казалось, прагматичной, хотя и оказалась в итоге проигрышной. Замечу, что сказанное весьма важно для понимания ситуации в 30-х годах. В то же время — это серьезный урок для оценки векторов развития современного турбулентного мироустройства.
Как Япония, так и Германия сначала завоевывали стратегические плацдармы и присваивали ресурсы (природные, материальные, человеческие), нападая на более слабые страны. Тем самым они наращивали свой военно-экономический потенциал и обустраивали выгодные плацдармы для расширения агрессии. Но об этом стало известно уже, так сказать, задним числом. А в то время обстановка была отнюдь не проста для оценки и принятия решений.
Строя в то сложное время свою внешнюю политику, Советский Союз не мог в отличие, например, от Франции и большинства других стран Европы не учитывать японский военный фактор также, как и возраставшую агрессивность нацистской Германии. Кроме того, заидеологизированность советского руководства, равно как и лидеров стран так называемого демократического блока, приводила СССР к необходимости подготовки к противостоянию и с этими странами, тем более что поводов было достаточно. В этой связи следует упомянуть явно ошибочную, но настойчиво проводившуюся западными демократиями так называемую «политику умиротворения» агрессоров (а точнее — поощрения их к войне против Советского Союза), которая известна как «мюнхенская политика». Однако, — следует особо подчеркнуть, — родилась отнюдь не в Мюнхене, а на востоке Евразии.
Дело в том, что агрессия Японии в Маньчжурии в 1931–1932 гг. получила лишь словесное осуждение со стороны стран Запада. На демонстративный выход Японии из Лиги Наций никаких санкций не последовало. Очевидно, лидеров западных стран вполне удовлетворило заявление главы японской делегации в Лиге Наций Е. Мацуоки о том, что Маньчжурия оккупирована с единственной целью: создать плацдарм для борьбы против СССР. Определенную уверенность в этом Западу давало то, что в течение нескольких лет Япония тянула с заключением пакта о ненападении, на чем настаивал Советский Союз, а позже отказалась от подписания из-за нежелания Москвы установить дипотношения с марионеточным Маньчжоу-го. 1930-е годы стали периодом резкого ухудшения японо-советских отношений, не раз перераставших в крупные вооруженные конфликты.
Тем временем, воспользовавшись попустительством мирового сообщества и накопив силы, Япония осуществила в 1935 году захват всего Северо-Восточного Китая и начала в июле 1937 года широкомасштабную войну в Китае. И это было молча «проглочено» Западом. Никакой реакции не последовало и на агрессивную антисоветскую вылазку японцев у озера Хасан в июле 1938 года и более масштабную агрессию Японии в районе монгольской реки Халхин-гол за три с половиной месяца до даты начала ВМВ. Вот где начиналась и наиболее последовательно проводилась политика «Мюнхена» — на Дальнем Востоке!
Громкая на словах, но поразительно беззубая в отношении Японии подстрекательская позиция ведущих держав мира объясняется тем, что их лидеры считали, что военные действия Японии в Китае приведут к крупномасштабному столкновению Японии и СССР. Для США и имевших значительные интересы в Китае Англии, Франции и Голландии важно было направить японскую экспансию на север, против СССР, а не на юг.
Таким образом, страны Запада, строя свою эгоистическую политику, проявили полное равнодушие к судьбе народов не только Советского Союза, но и Китая, Монголии, Чехословакии... Более того, поощряя, как они считали, антисоветское направление японской, а затем и германской агрессий, они на протяжении всех 30-х годов оказывали Токио и Берлину экономическую помощь и прямую военную поддержку. Так, осенью 1931 и в 1932 гг., то есть после начала агрессии в Маньчжурии, США предоставили Японии огромную по тем временам военную помощь на сумму 181 млн долларов, а в 1938 г., уже в условиях войны Японии в Китае, они вновь предоставили ей 125 млн долларов в виде займов и кредитов, а также вооружения и техники. В то же время Китаю американцы предоставили кредиты лишь на 25 млн долларов. По оценкам ученых КНР, от американского оружия погибало в тот период 54 % китайцев. Аналогичную политику страны Запада проводили и в Европе. Уже спустя пару лет после окончания Первой мировой войны США взяли курс на экономическое и военное возрождение проигравшего в той войне агрессора с откровенной целью готовить Германию для борьбы против Советского Союза. Главенствующую роль в подведение нового фундамента пошатнувшегося здания германского милитаризма играли американские монополии, делая это отнюдь не бескорыстно. В процессе перевооружения Германии они рассчитывали на весомые дивиденды. Важной вехой на пути реализации этого опасного политического курса стал план американского банкира Ч. Дауэса, утвержденный державами-победительницами в августе 1924 года в Лондоне. Этот план закрепил ведущую роль США в германском вопросе. Из первого займа Германии в 200 млн долларов 110 млн предоставили США. Мощная финансовая поддержка США и Англии (около 20 млрд марок) дала возможность германским монополиям в течение 5–6 лет восстановить тяжелую индустрию и военную промышленность, что было важнейшей предпосылкой будущей агрессии Германии, обернувшейся в конце концов против ее спонсоров.
Великобритания и Франция, согласившись на аншлюс Германией Австрии и отдав ей в Мюнхене Чехословакию, сорвали затем переговоры о мерах противодействия германской агрессии с Москвой, пойдя на сепаратные переговоры с нацистским руководством. Эта политика привела к потере континентальной части Западной Европы. Следует отметить активное участие в Мюнхенском сговоре далеко не дружественных по отношению к СССР Польши и Венгрии. Правящие круги государств, пошедших на сделку с Гитлером в Мюнхене, следует признать поджигателями ВМВ наравне с властями Японии, Германии и Италии.
Конечно, главной конечной целью и Японии, и Германии был Советский Союз. Однако решительное пресечение японской агрессий у оз. Хасан и р. Халхин-гол, а также вынужденное из-за срыва Западом советских предложений о коллективном отпоре готовящейся германской агрессии подписание Москвой Договора о ненападении с Германией, позволили нашей стране на время разрядить напряженность как на восточных, так и на западных границах. Умелым лавированием в сложной военно-дипломатической игре удалось сорвать замысел Японии, Германии и Италии, втянуть СССР в блок «четырех против демократии»2. Трансконтинентальный союз четырех агрессоров не состоялся.
Советскому руководству того времени удалось разобраться в хитросплетениях дипломатии и военной политики, в сложной системе исторических и геополитических координат кануна Второй мировой войны, а также выиграть более полутора лет для укрепления экономики и обороны. И если бы не катастрофические ошибки, в том числе лично И. В. Сталина, связанные с определением момента нападения на СССР, начальный период неизбежной войны был бы менее кровавым.
Оценивая исторический опыт почти 80-летней давности, вновь и вновь осознаешь, какое огромное значение имеют для современности уроки кануна Второй мировой войны. Одним из главных уроков является отсутствие в то время действенной системы сдержек и противовесов зачинщикам той войны, под какими бы благовидными предлогами они не играли военными мускулами. То ли, как это заявлялось тогда, во имя борьбы с коммунизмом, то ли, как утверждают сейчас, с целями борьбы с диктаторскими режимами, поддержки суверенизации «угнетенных народов» и «прав человека». И то, и другое, и любое третье ведет к вооруженному насилию, военной эскалации, гегемонии и диктату одной или группы стран, нарушению суверенитета неугодных государств, их ослаблению и дроблению, подрыву международной безопасности.
Как свидетельствует события последних десятилетий, США и другие ведущие члены НАТО по крайней мере до недавнего времени, были склонны к диктату, к использованию «Томагавков» как средства «международного общения» в интересах разрешения своих сугубо внутренних проблем, таких как экономическая стагнация, социально-политическое расслоение в обществах, утрата моральных ценностей и т. д., за счет других, неугодных Западу стран и народов. При этом, соответствуют ли их действия международному праву или нет — как и прежде, в расчет не принимается. Бывший госсекретарь США Г. Киссинджер свидетельствует, например, что «судьбоносные решения», приведшие к бомбежке Югославии в мае 1999 г., были приняты администрацией У. Клинтона еще в феврале, когда «оставались открытыми другие пути».
Именно тогда были приняты решения о вводе военного контингента НАТО в Югославию для управления ее сербской частью и чтобы использовать легко предсказуемый сербский отказ как обоснование для начала бомбежек. То же самое относится и к действиям администраций Дж. Буша-младшего, Б. Обамы и других лидеров НАТО в событиях вокруг Ирака, Афганистана и Ливии.
Если говорить о внешнеполитической стратегии России, то с учетом уроков Второй мировой она должна проявляться в выверенных мновекторных усилиях, направленных на недопустимость втягивания России и мирового сообщества в Третью мировую войну. Это и последовательная реализация нацеленных на это планов на Украине, в Турции, Сирии, Иране, в Центральной Азии и в целом в Евразии, о чем говорит нескорое, но уверенное развитие по инициативе или с активным участием России СНГ, ОДКБ, Евразийского экономического союза, ШОС, объединений БРИКС, РИК. Это и выстраивание отношений всеобъемлющего доверительного стратегического партнерства России с Китаем. Это и чрезвычайно важное налаживание доверительных отношений с новой администрацией США по вопросам борьбы с ИГИЛ и решением вопросов по Украине и ряду глобальных проблем. Это и попытки улучшить отношения с одним из поджигателей Второй мировой войны — Японией. Абсолютно неправильно, более того — вредно то, что из всех сфер нужного для обеих стран сотрудничества искусственно вычленяются Южные Курилы. Хотя Южные Курилы — это российская территория, которую мы должны обустраивать сами.
* * *
Мировые войны зарождались и происходили, главным образом, в пределах Евразийского континента. Поэтому важно приступить к реализации идеи создания действенной международной структуры для формирования свободного от распрей единого евразийского пространства в целях достижения мирного взаимовыгодного экономического и социального соразвития народов Евразии как основы глобальной безопасности.
1 Один из участников конференции «Военная безопасность России: взгляд в будущее» заметил, что не следует употреблять термин «виновники» применительно к развязыванию Второй мировой войны. Он считает, что правильней говорить о поджигателях войны. — Прим. авт.
2 См. об этом раздел «Прожекты создания четырехстороннего «блока против демократии»» в монографии автора «Последний очаг Второй мировой» /М., 2002, с. 51-57/
Об авторе
Зимонин Вячеслав Петрович, капитан I ранга, доктор исторических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академический советник РАРАН,
руководитель секции «Военная история» 10-го отделения РАРАН.
Военный университет МО РФ.
Свернуть статью
Автор: Зимонин Вячеслав Петрович