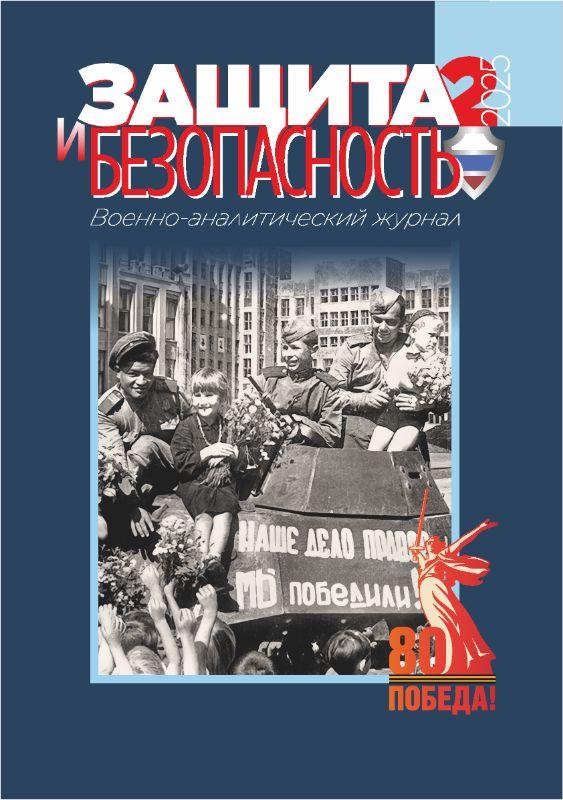Мы повторяем здесь публикацию статьи А.Г. Михайлова «Терроризм и экстремизм — бег по кругу» точно в том виде, в каком она была напечатана три года назад. Статья не утратила актуальности. Критика деятельности контртеррористического блока правоохранительных органов и спецслужб очень жесткая, но одновременно она компетентна и конструктивна. Об этом, в частности, говорит то, что некоторые предложенные автором меры уже реализованы. В их числе передача функций ФСКН и ФМС в МВД РФ и ряд других фактов. Однако многие из затронутых болевых проблем еще ждут своего решения.
Генерал-майор, генерал-лейтенант полиции Александр Георгиевич Михайлов хорошо известен нашим читателям, и не только им. В разные годы он возглавлял Центр общественных связей КГБ СССР и ФСБ РФ, Управление общественных связей и информации МВД России, Управление правительственной информации аппарата Правительства РФ. Свою службу он начал младшим лейтенантом и долго находился на оперативной работе в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Ряд операций, в которых он принимал активное участие, вошли в историю отечественных спецслужб.
Говорить о терроризме сегодня становится дурным тоном. Но не потому, что общество очерствело к чужому горю, а потому что мы, словно пони на карусели, бегаем по кругу, пытаясь выдавить из себя хоть что-то новое в набившем оскомину тезисе — несовершенстве нормативной базы. Я не знаю, что еще нужно нашим спецслужбам, чтобы они наконец-то вернулись к задачам, ради которых мы платим им деньги, — выявлять, упреждать и пресекать.
Традиции ювелиров контрразведки сегодня утеряны, а потому главным инструментом становится кувалда, действие которой мы наблюдаем на Северном Кавказе. И каждое ее применение сопровождается ударами по пальцам: соотношение уничтоженных бандитов и силовиков на круг приблизительно одинаковое. А героизм погибших ребят, по своей сути, является платой за низкий профессионализм тех, кто, как говорится, должен работать «без шума и пыли». И даже далекие от спецслужб люди уже поняли, что если танк вышел на прямую наводку, то с кого-то нужно снимать погоны. Но не снимают потому, что к происходящему привыкли, а очередной террористический взрыв остается всего лишь поводом поговорить о несовершенстве законов. Особенно громко рассуждают об этом персонажи, которые и законы-то не всегда знают.
* * *
Развитие Интернета и социальных сетей привело к тому, что тайное почти всегда трансформируется в явное. Да, социальные сети — это гениальное изобретение, сделавшее мир прозрачным, объединившее самых разных людей в своеобразные общности. Некий параллельный мир, где каждый человек ощущает себя личностью, имеющей право на собственное мнение, которое он и высказывает, нередко не выбирая выражений в адрес сановных лиц, к такой прямоте не привыкших.
Наши противники давно освоили информационные технологии и активно используют их для внедрения в сознание наших граждан мировоззрения, поведенческих стереотипов и идеологических установок, направленных на разрушение России. Иными словами, против нас применяются принципиально новые средства противоборства в неизвестном ранее виде войн — в войнах информационных. В результате враждебных действий в информационном пространстве обостряются внутренние напряжения в обществе, развиваются разрушительные процессы в отдельных социумах и в обществе в целом. На профессиональном языке такие процессы называются «целевым формированием экстремистских настроений».
Ядовитые семена экстремизма прорастают самопроизвольно по принципу «когда беды совсем не ждешь». Смертоносные плоды этих зловещих побегов проявляются в массовых беспорядках, в логически необъяснимых актах насилия и вандализма. Примеры у всех на виду: недовольство так называемых фанатов игрой своей команды, не замеченная вовремя межнациональная вражда и т. п. Кондопога, Бирюлево, бесчинства на Манежной площади — всего не перечислишь.
Сегодня много спорят о праве специальных служб изучать контенты в социальных сетях. Как старый жандарм замечу — это должно быть не право, а обязанность. Так как в социальных сетях можно не только услышать глас народа, но и найти то, что по сути является жемчужинами общественного мнения, зернами нужных политических решений. И если это до сих пор не делается, то грош цена специальным службам, которые по своему положению не только обязаны сканировать общественно-политическую ситуацию (выявлять, упреждать и пресекать), но и предлагать власти оперативные пути решения важных проблем, своеобразные антидоты.
«Единство партии и церкви»
Спецслужбы и власть в целом пытаются уследить за стремительно меняющимися общественно-политическими настроениями граждан и даже делают робкие попытки развернуть вектор общественных устремлений в позитивном направлении. Нельзя не заметить все более интенсивное использование религиозных мотивов. При этом Русская православная церковь активно претендует на роль государствообразующего института. Но вот что настораживает: экстремизм радикально-исламской природы уже стал втягивать в воронку террористической активности лиц христианского, в том числе православного вероисповедования, что говорит не только о провале оперативной составляющей, но и о системном кризисе самих конфессий.
Следует отметить парадоксальную закономерность: чем больше предпринимается попыток поставить «веру» на службу государства, тем больше возникает радикальных течений. Натужное декларирование «единства партии и церкви» у кого-то вызывает оторопь, а кто-то ищет иную нишу, надевая хиджаб и отращивая бороду. Сами же традиционные конфессии вместо налаживания диалога с паствой (заблудшими овцами) следуют в идеологическом кильватере классиков марксизма: «Кто не с нами, тот против нас!».
И делают это повсеместно, подменяя толерантность ортодоксальностью. Неспособность регулировать общественные, в том числе религиозные, процессы в рамках диалога объективно влечет за собой ужесточение законов, привлечение административного и силового ресурсов светского государства, что еще больше усугубляет конфликты и противоречия в обществе, исключая сам собственно диалог.
Источники и составные части экстремизма
Согласно материалам МВД России, начиная с 2009 года на фоне снижения общего числа регистрируемых преступлений, включая некоторое снижение числа преступлений террористического характера, отмечается устойчивый рост преступлений экстремистской направленности. В 2009 и 2010 годах этот рост превышал 19% по отношению к предыдущему году, в 2012 году составил 11,9%, а за десять месяцев минувшего, 2013 года рост преступлений экстремистской направленности достиг 29,7%.
Тенденция последовательного и разнонаправленного роста экстремизма в России требует исследования источников и причин, его порождающих. Перечислим важнейшие из них.
1. Согласно статистике МВД и ФСБ, более 90% членов экстремистских организаций — это молодые люди в возрасте до 30 лет. Они же составляют 80% от всех совершавших преступления экстремистской направленности. Однако за последние 20 лет государственные и общественные институты так и не смогли найти эффективные контрэкстремистские технологии в молодежной среде. Ведь органы, реализующие государственную молодежную политику, в лучшем случае работают с молодежью, уже организованной в стенах школы или вуза. А вот как подойти и чем занять головы юношей и девушек из числа улично-подъездной и сельской молодежи, у которой не сформирована устойчивая система ценностей и низок уровень правосознания, похоже, не знают. Но именно такие молодые люди являются ресурсной базой экстремизма, легко откликаясь на призывы решать сложные проблемы путем насилия.
2. На фоне межконфессиональных противоречий обостряются противоречия национальные, что в условиях неконтролируемой миграции архиопасно. Вспышки взаимного насилия по национальному принципу стали слишком частыми. Гипертрофированное восприятие обществом самых незначительных, на первый взгляд, событий на межнациональной основе увеличивает пропасть недоверия и враждебности. Все это напоминает американские блокбастеры про социальные катастрофы, где все воюют со всеми на руинах разоренной страны.
Очевидно, что данный сценарий применялся давным-давно, но особенно четко он был сформулирован Алленом Даллесом, первым руководителем ЦРУ, который в борьбе с СССР призывал сеять межрелигиозную и межнациональную рознь. Удивительно, что, помня об этом подходе, а самое главное, наблюдая его реализацию воочию, наши правоохранительные органы и спецслужбы продолжают утверждать, что у них «все под контролем». Но самым опасным является то, что в последние годы сформирована ресурсная база экстремизма. Это агрессивно-маргинальные слои — продукт неграмотных и неумелых действий власти, и сформированная на легальной основе система финансирования экстремизма и терроризма.
3. Довольно странным является то, что экстремизм, зарождающийся на основе известных мировоззренческих противоречий, являясь по сути сферой политической, относится к ведению МВД России, которое правомерно утверждает, что политикой не занимается. Может быть, поэтому современная полиция, определенная головным органом в противодействии экстремизму, до настоящего времени не сумела наработать эффективные правоохранительные практики противодействия этому злу. Но и не сумеет! Потому что ему в затылок дышит ФСБ с очень удобной позиции: не отвечая за оперативный блок в сфере борьбы с экстремизмом и соответствующие решения, можно в случае непредсказуемого развития обстановки спросить, как у Райкина, «а кто пуговицы пришивал?».
Здесь уместно напомнить азы: уничтожая главарей (что, с точки зрения отчетности и даже морали, правильно и справедливо), мы лишаем террористов центра, а вместе с ним равняем с землей агентурно-оперативные позиции в соответствующей враждебной среде! Ведь проще контролировать и рубить вокруг одного центра, чем вообще не знать, есть ли эти центры и где они. И уж, тем более, не иметь возможности агентурой доставать до них!
Вместе с тем, в отношениях между маргинальной молодежью и правоохранительными органами явно преобладает упор на силовые методы подавления протеста, которые неминуемо ведут к дальнейшей радикализации отдельных слоев молодежи, да и общества в целом. Это объяснимо, так как воздействие осуществляется на следствие явления, но не на его причину. И такое противостояние безусловно провоцирует переход от экстремистских методов к террористическим.
Мало кто помнит, что события в Чечне 90-х годов начались отнюдь не с политических требований, а с митингов против строительства в Гудермесе химкомбината. Поэтому необходимо в первую очередь противодействовать негативным процессам идеологическими и политическими средствами, устраняя причины возможных проблем. Но телега поставлена впереди лошади: борьбой с бандподпольем занимается ФСБ, а вопросами политического характера — МВД. Хотя вопросы упреждения и скрытого влияния в зонах общественных возбуждений всегда были прерогативой спецслужб. Как и задачи внутреннего разложения источников и очагов экстремизма.
4. Еще одна причина — это снижение порога чувствительности у людей путем систематического вдалбливания в головы принципа силы как единственного инструмента решения правовых вопросов. До 80% эфира центральных каналов — это сериалы про ментовские, бандитские и прочие войны. Кровь с телеэкранов льется реками, а число убитых в эфире по моим подсчетам превысило число жителей среднестатистического региона. И что важно: телеканалы закупают в основном те боевики и триллеры, которые в странах их производства не показывают по морально-нравственным критериям. Многие выпускаются только на дисках и в эфир никогда не выходят! Объем таких сюжетов и публикаций по экстремистской и террористической тематике уже превысил некую «критическую массу», а отдельные отечественные СМИ утратили не только чувство политической корректности, но и здравый смысл в натуральности освещения проявлений экстремизма и терроризма.
Самое удивительное, что свой вклад в формирование подобной практики, а по сути в пропаганду идей терроризма — запугать и подавить, — вносят те, кто больше других должен быть заинтересован в предупреждении и минимизации последствий проявления экстремизма и терроризма. Это пресс-службы правоохранительных органов, которые своей информационно-пропагандистской политикой внушают обществу, что преступность — нормальный информационный повод. Как следствие, большинство новостных блоков начинается исключительно с криминальных новостей. Российское общество настолько привыкло к такому положению дел, что более 50% опрошенных пользователей Интернета высказываются против возможного запрета публикации в СМИ информации о массовых убийствах.
Основной аргумент сторонников данной позиции — нельзя замалчивать явления. Нет возражений. Замалчивать не надо — но пропагандировать-то зачем? Зачем гиперболизировать преступность, предоставлять информационную трибуну бандитам, экстремистам, террористам для изложения их человеконенавистнических взглядов и самооправдания, которые в противном случае никто бы не услышал? Зачем подобными сюжетами провоцировать появление «комплекса Герострата» у террористов и экстремистов, изыскивающих пути, в их понимании, «войти в историю»?
Тенденция к гиперболизации преступности заложена и в системе отчетности пресс-служб правоохранительных органов, в которых до настоящего времени сохраняется так называемая «палочная система» — прирост публикаций к аналогичному периоду прошлого года. Поэтому отдельные правоохранители стремятся поразить общество своими успехами, которые практически не оказывают профилактического влияния на криминалитет, а для общества являются удручающими, так как формируют атмосферу страха и безысходности.
По существу раскручивается алгоритм самоуничтожения государства: отсутствие позитивного восприятия действительности, утрата веры в справедливость, исчезновение надежды на лучшее будущее, падение доверия к власти. Закономерным итогом подобной политики является неверие в способность правоохранительных органов обуздать преступность, как и неверие самим этим органам, несмотря на проведенные реформы и переименования.
Но все изложенное — только верхняя часть айсберга.
Служебно-оперативное разгильдяйство
Для понимания причинно-следственных связей в сфере борьбы с терроризмом следует рассмотреть трагические события в Волгограде. Три взрыва за короткий промежуток времени! Разбор показывает наличие многих общих ошибок и просчетов, которые повторяются систематически.
Например, своеобразная историческая амнезия у людей, которые обеспечивают безопасность. Дело в том, что именно 30 декабря 1994 года — 19 лет назад, начались бои за Грозный, а 31-го велись самые кровопролитные сражения за центр города. Именно в эти дни была разгромлена майкопская бригада внутренних войск. Для многих родственников — это день скорби. Однако я не знаю ни одного распоряжения об усилении агентурно-оперативной деятельности в годовщины таких скорбных дат! Выборы мы научились обеспечивать, а вот события, расколовшие общество, забываем. Мы забыли, а бандиты помнят дни, когда они пролили первую большую кровь. И потому усиление надо вводить не после годовщин знаковых событий, а ДО них!
Кстати, напомню, что опыт усиления в преддверии таких дат был наработан в КГБ СССР. Например, если в стране 23 февраля отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота, то на Кавказе усиливали работу, так как именно в этот день началась депортация чеченского народа. Говоря о терактах в Волгограде, следует признать работу региональной антитеррористической комиссии не столько неудовлетворительной, сколько безобразной и пустой. Что же это за работа, если вслед за первым терактом произошло еще два! Более чем уверен, что у чиновников в Волгограде была смутная надежда, дескать, в одну воронку снаряд дважды не падает!
Антитеррористическую комиссию возглавляет губернатор, и он просто был обязан подать прошение об отставке, а президент мог ее принять или отклонить. Видно, напрочь забыты традиции русских государственников, которые не только умели скорбеть вместе с народом, но и отвечать за свои действия (бездействия)!
Говоря о взрывах в Волгограде, я не исключаю, что информация упреждающего характера была. Просто лежала она в каком-нибудь сейфе безалаберного опера или его начальника. И не факт, что в Волгограде или Пятигорске. Может, и в Калуге или Магадане. Уверен, что в оперативном поле был след. Однако длительный период безответственности привел к легкомысленному отношению к важной информации. Во времена Андропова такого просто не могло быть! Каждый оперуполномоченный понимал, что, решая задачу в Благовещенске, он обеспечивал безопасность и в Москве, и во Владивостоке. И не дай бог, если с течением времени появится из архива бумажка с сигналом об уже состоявшемся террористическом акте. В таких случаях головы летели вместе с кокардами. Но в последнее время мы не видели ни одного факта освобождения от должности генералов за провал оперативной работы. Более того, даже на очевидные факты не видно адекватной реакции.
Ну, как можно относиться к тому, что в Подмосковье только в Пушкино выявлено 2500 нелегалов-вьетнамцев! Это по численности два усиленных мотострелковых батальона под самой столицей! И никто из служб ФСБ, работающих по иностранцам, не уволен! Как говорится, полная расслабуха!
Усиление на три буквы…
Нет, это совсем не те буквы, о которых вы подумали! Я говорю о трех «Т»: туалет — телевизор — телефон. Именно так мы называли усиления, которых я за свою долгую оперскую службу повидал немало.
Между тем повсеместным ответом на теракт является введение всеобщего усиления в силовых структурах, о котором нам сообщают как о подвиге. На самом деле, это не что иное, как пресловутая показуха и одновременно профанация настоящей работы. И об этом усилении не только сообщают, но и показывают. Телекадр дня: цепочка курсанток милицейского института на улице Волгограда. Бушлаты не по размеру, шапки и… сапоги на шпильках!!! Ни догнать, ни убежать! И что же они делают? И какой толк от того, что в кабинетах круглосуточно сидят офицеры, не имеющие ни малейшего отношения к оперативной работе?
Вот подмосковные чиновники доложили, что они будут «усиливаться». Все будут на своих местах! И даже «сверили телефоны всех оперативных служб». Хоть стой, хоть падай! Сдуру можно всю страну в кабинеты загнать. И что? А уж докладывать о том, что сверили телефоны со всеми правоохранительными органами, это вообще за гранью тупости! Вот обрадовали: телефоны знаем, так что, если надо, позвоним!
Хотите помочь — надевайте красную повязку и идите в пургу и непогоду патрулировать улицы. Хотя и там они бесполезны, если не будут, как и полицейские, знать своего маневра. Кого ищем, какие приметы преступников, какие признаки поведения и прочее.
* * *
Каждый террорист начинал экстремистом, хотя не каждый экстремист становится террористом. Но, как уже отмечалось, эти две темы, работа по профилактике и пресечению, разорваны по разным ведомствам: экстремизм — в МВД, а террор — в ФСБ! Да как это может быть? Где очевидная увязка причины и следствия? Повторю: сегодня число возбужденных уголовных дел по экстремизму в два раза больше, чем в прошлом году. Катастрофический рост!
Наличие оперативной техники и иных возможностей, которых сегодня просто избыток, не должно подменять аналитическую работу. Техника — это всего лишь помощница, а не основной персонаж антитеррористической деятельности. Однако анализ начинается только тогда, когда все свершилось. Не только маршрут террориста могут восстановить, но и замысел. Типа «она хотела выехать в Москву, но почему-то передумала». И личность устанавливают за пять минут. Но почему после? И что характерно, после трагедии отдельные горе-руководители опять начинают клянчить деньги на технические средства. Есть ли в этом смысл? Товарищи! Братцы! Да есть все! Не хватает только мозгов, интуиции и креативности в работе!
«Сержанты» где? — «Сержантов» нет!
Жуков говорил: «Армией командуем я и сержанты!». Так где же сегодняшние «сержанты»? Их нет, осталось одно старичье, но и оно вскоре исчезнет. Оттого и наблюдается низкий профессионализм силовиков на земле. В первую очередь — ФСБ! Если еще на Северном Кавказе люди ведомства (а особенно ЦСН) в тонусе, то в России в целом… Представьте, если злодеяние случится в Иваново или Рязани? В патриархальной тишине? Чем дальше от Кавказа, тем меньше бдительности и профессионализма.
Но самым важным в кадровой проблеме мне представляется полный провал ставки на молодежь. Опытные сотрудники вычищены из всех структур или сами давно сбежали с горячих участков в синекуры типа кадровых служб. А молодые лейтенанты просто не знают и не умеют. Нет опыта и преемственности. И самое главное — в кадровом составе сегодняшних силовых структур нет среднего звена. А если есть, то люди плохо подготовлены. Между тем существовавшая практика взращивания кадров, именно — взращивания! — забыта. Желторотые юнцы могут сразу с курсантской скамьи попасть в центральный аппарат. Такое наблюдается по всему силовому блоку. В ФСБ даже ветеранов в управления не приглашают. А в ФСКН и совета ветеранов за 10 лет не создано. Опыт почетных сотрудников новым начальникам НЕ НУЖЕН! Зачем иметь рядом с собой людей, которые умнее и опытнее, которые могут указать на ошибочное решение или подсказать ход, который интеллект начальника даже переварить не сможет? Обратите внимание, как проходит «зачистка» в любом подразделении любого ведомства с назначением нового руководителя. Как правило, он всегда приезжает со своей командой. Иногда сразу и не поймешь, то ли профессионалы приехали, то ли рота денщиков и порученцев. И каждый из них, даже не зная границ области и национального состава, начинает учить или, говоря по-народному, «прессовать» личный состав, нередко проявляя мракобесие и волюнтаризм.
Мы по инерции гордимся нашим образованием. Но ведомственная система подготовки кадров сегодня — это тупик! И ведь учат кое-как. И готовят не пойми из кого и кого! А что не учиться? На всем готовом, стипендия повышенная, форма красивая, льготы. И попасть туда без протекции почти невозможно! А кто сам пробился и поступил, становится местной достопримечательностью, которую показывают как спайку типа «полиции и народа». Надо вернуться к советской системе подготовки кадров. Армия обязательно! Средние специальные учебные заведения — необходимый этап службы. Достойно служащим предоставить возможность получить высшее образование — вот когда должна начинаться система ведомственного образования. На офицерские должности ввести набор прямым зачислением исключительно после вузов (сегодня зарплата это позволяет). После приема на службу — курсы подготовки (переподготовки) оперсостава. И только тогда присвоение звания — если его нет.
Необходимо раз и навсегда покончить с зачислением в высшие учебные заведения ФСКН, ФСБ и МВД и др. сразу после школы. Следует отбирать людей с образованием и жизненным опытом. И зачислять новичков только в подразделения на земле. И только лучших переводить в центральный аппарат. Зададимся вопросом, как лейтенант после вуза или академии будет обеспечивать безопасность транспорта или атомного объекта. В первом случае он на метро ни разу не ездил. Во втором даже правило буравчика не знает. А уран-235 путает с планетой солнечной системы!
Целесообразно вернуть в кадры отслуживших профессионалов с предоставлением права получать оклад по прежней должности, даже если он будет выполнять функции опера. Это и с точки зрения наставничества было бы верно!
Возможно, многим не понравится, но замечу, что нам так или иначе придется выйти на сокращение субъектов оперативно-розыскной деятельности, вернувшись к советской системе ФСБ—МВД—прокуратура. Все прошедшие сокращения в силовых ведомствах затронули исключительно рабочие органы, функциональные. Сегодня на все субъекты ОРД профессиональных кадров катастрофически не хватает. Наиболее ценные размазаны по ведомствам, как остатки каши по тарелке. Огромный балласт наполняет системы, а бюрократический планктон на круг бьет все мыслимые рекорды. Оперсостава, реально решающего практические задачи, сегодня 10–15% от общей численности! Все остальное — гарнир. И не всегда полезный для здоровья. Необходимо все собрать в единый кулак. ФСКН, ФМС перевести в МВД. Следствие вернуть в прокуратуру! Мы все равно к этому придем. Нас жизнь и экономическое положение страны заставят.
Возможно, читателю покажется, что, начав «за здравие», я кончил «за упокой». Но без честного разговора о просчетах и ошибках мы обречены топтаться на месте, давая возможность врагам России наращивать свою тлетворную деятельность.
Свернуть статью
Терроризм и экстремизм — бег по кругу (стр. 6-9)
Аннотация:
Генерал-майор, генерал-лейтенант полиции А.Г. Михайлов пишет о злободневных и до сих пор не решенных проблемах, относящихся к противодействию терроризму и экстремизму. Традиции ювелиров контрразведки сегодня утеряны, а потому главным инструментом становится кувалда, действие которой мы наблюдаем на Северном Кавказе. Причем, соотношение уничтоженных бандитов и силовиков приблизительно одинаковое. А героизм погибших ребят, по своей сути, является платой за низкий профессионализм тех, кто, как говорится, должен работать «без шума и пыли».
Читать всю статью