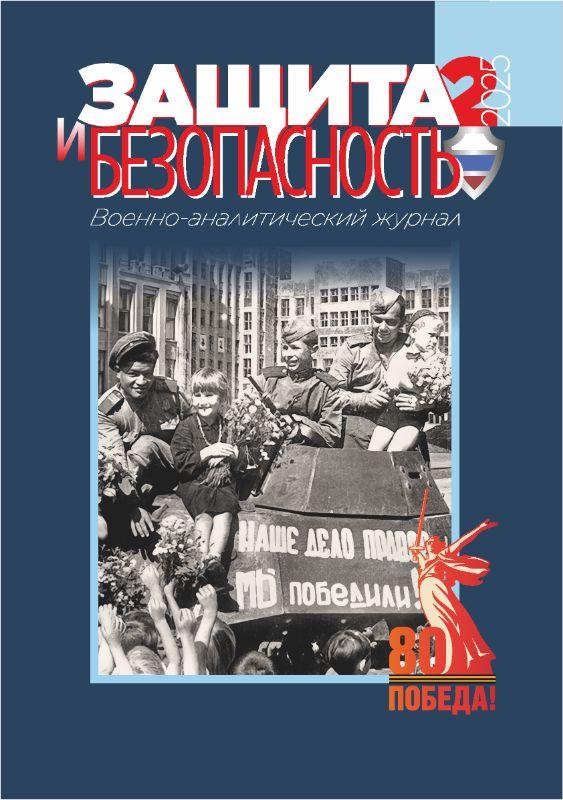Согласное со всем болото затянет на дно (стр. 44-46)
Аннотация:
Интервью с народным артистом РФ, директором музея-памятника Исаакиевский собор Николаем Витальевичем Буровым мы взяли буквально за пару недель до того, как он решил покинуть свой пост. Но посвящено оно совсем не спорам вокруг судьбы собора, а вкладу культуры, образования в обеспечение безопасности государства, поскольку утрата культурных кодов делает из нации неуправляемую или, наоборот, искусно управляемую через животные инстинкты толпу. Можно ли остановить и изменить такой сценарий развития событий? Что делают или еще могут сделать деятели культуры, чтобы на основе преемственности традиций, заложенных предшествующими поколениями, творчески развивать оставленное нам духовное наследство? Что здесь зависит от государства, воли его руководства? Об этом размышляет наш собеседник, обращаясь к собственному опыту общения с такими знаковыми фигурами в истории нашей культуры, литературы, как О.Ф. Берггольц, Д. А.Гранин, М.М.Бобров и многие другие.
Читать всю статью— Николай Витальевич, вы предложили поговорить на неожиданную тему. Всегда разговоры об обороноспособности, безопасности страны велись как бы с ракурса «сверху вниз»: что должны сделать государство, силовые структуры, ОПК для того, чтобы люди жили спокойно. А вы, как я понимаю, в своих рассуждениях следуете в обратном направлении…
— Я полагаю, что обороноспособность страны в первую очередь зависит от внутреннего ощущения народа. Как он сам себя воспринимает в этом пространстве, готов ли идти к поставленным целям? Ответственно ли относится к выборам и готов ли следовать избранному им руководству? Я думаю, что степень ответственности каждого гражданина и влияет на самые главные компоненты государства: его силу, возможность участвовать в мировых политических процессах, его способность сжать кулак, если потребуется. Миролюбивым можно и нужно быть тогда, когда ты способен не только дать отпор, но и продиктовать свою волю, в том числе с позиции силы.
Поэтому к области безопасности я всегда относил вопросы гуманитарного толка. Все культурные компоненты очень серьезно влияют на внутреннее состояние общества, на его дух, на крепость этого духа.
— И с чего здесь нужно начинать?
— Со школы — это одна из основных, если не главная составляющая общего самочувствия.
Я болезненно воспринимаю сокращение гуманитарной — базовой — составляющей образования. Подросток складывается в школе в личность и гражданина более всего на уроках русского языка, литературы, истории. Именно они — главное условие его дальнейшей успешной социализации. На протяжении последней четверти века, охватившей целых два поколения, у нас были отменены те ориентиры и приоритеты, которые существовали раньше. Хороши они или нет — это отдельное рассуждение. Отказ от октябрятских звездочек, пионерских дружин, комсомольской организации дезориентировал на какое-то время не только детей, но и родителей. Надо было выстраивать заново, что такое хорошо и что такое плохо. Сейчас мы только начинаем возвращаться к подобным институтам детского воспитания и детского самоуправления. Самоуправление — это не обязательно отдельно стоящая детская организация, это и умение управлять самим собой, своими эмоциями, без чего трудно вписаться в модель общества.
— Недавно прочитала мнение немецкого ученого Оскара Пешеля. В 1866 году после победы прусской армии над австрийцами он сказал: «Народное образование играет решающую роль в войне. Когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем». Интересно, одержали бы российские учителя такую победу сегодня?
— Дело же не только в объеме знаний, хотя и в них тоже. Как-то незаметно из самой читающей в мире мы перешли в состояние лениво читающей нации. Наше общество очень изменилось: от коллективизма в лучшем его понимании мы пришли к достаточно эгоистическому восприятию.
— Если школа самоустраняется, то кто с этим должен дальше бороться?
— Здесь очень много участников переговорного процесса: Церковь (не только православная, но и других конфессий), театры, музеи, библиотеки, учреждения дополнительного художественного образования. Но самым главным мне представляется семья. Однако каким образом привить ребенку любовь к чтению, если молодые родители этим сами не страдают? В школьной программе свели до минимума огромный пласт российской литературы: целый ряд писателей от Горького и после него. Хотя их гуманистический потенциал еще далеко не освоен.
Иными словами, страдает общее гуманистическое направление образования и просвещения. Учреждения культуры пытаются восполнить этот пробел. Расскажу об Исаакиевском соборе. Некогда учрежденное в недрах музея школьное научно-исследовательское движение дает свои результаты. Мы стали издавать даже учебные пособия: от русского языка, литературы, истории до физики и химии, потому что многим их положениям можно найти блестящее подтверждение буквально под сводами Исаакия. Это гениальное архитектурное творение, непревзойденная инженерная конструкция, место претворения многих художественных замыслов, прежде всего, связанных с Российской академией художеств. Еще прежде, чем в Исаакиевском соборе, школьные отделы начали работать в Эрмитаже и Русском музее.
Многие формы работы с детьми, рожденные в советское время, будь то в театре, музее или библиотеке, можно и нужно творчески развивать. Ведь ребенок — это губка, которую надо напитать не ядом, а живительной влагой. И такой город, как Санкт-Петербург, дает для этого бесчисленное количество возможностей. Созданный как имперская столица и существовавший в этом статусе два века, он накапливал все богатство, в том числе и интеллектуальное, страны. И честно на протяжении своего нестоличного столетия он ей это отдает. Не случайно именно здесь нашлось место для Института народов Севера при Герценовском педагогическом университете, а Санкт-Петербургский университет традиционно много внимания уделяет изучению территорий России. Так сложилось, что Москва отвечает за центр и юг, а Ленинград — Петербург распростер крылья над Севером вплоть до Дальнего Востока.
— В вашем представлении кто или что такое ленинградец или петербуржец?
— Это человек, для которого абсолютное большинство интеллектуальных и художественных богатств нашей страны находится в зоне доступа гораздо более долгое время, чем у того, кто приехал сюда как гость. Но мы слабо используем потенциал ежедневных возможностей, которые открывает Петербург. В год сотни и сотни выставок, премьер в драме, музыкальном театре, на концертных площадках. У нас один из лучших мировых симфонических оркестров в Филармонии, оркестр Капеллы, великий оркестр Мариинского театра, блестящий оркестр Михайловского театра, Губернаторский оркестр. В городе сложились потрясающие хоровые традиции. Петербургу триста с небольшим лет, а Капелле, наследовавшей традиции еще московской допетровской капеллы, — более 500. Два из трех указа Елизаветы Петровны в сфере культуры были адресованы Петербургу, а потом уже всей стране. Сначала в 1755 году был утвержден указ о создании Московского университета, а затем с интервалом в один год в Петербурге учреждается Русский профессиональный — и что очень важно, внесословный общедоступный — театр. И, наконец, Российская академия художеств.
Отсюда, из Петербурга, началось распространение художественного образования и популяризация в музейном пространстве отечественного изобразительного искусства. Наш музей иногда норовят упрекнуть в том, что он стоит на месте, отставая от времени. Я не соглашусь с этим. Никогда не было такого наплыва посетителей — десятки и десятки миллионов человек. Если бы музей не двигался в ногу со временем, иногда даже опережая его, такого бы не было.
Невозможно переоценить значение библиотечного дела. Недаром сегодня многие забили тревогу, обсуждая вопрос об объединении двух главных библиотек страны: Российской национальной (бывшей Императорской) в Петербурге и Российской государственной в Москве. Какие цели преследует эта реорганизация, трудно представить. Оптимизацию расходов? Это пошло! Усиление контента? Но в наше время это можно делать дистанционно, не разрушая особенность и непохожесть одной библиотеки на другую. Я полагаю, что этот вопрос требует всестороннего осмысления и обсуждения.
Я не великий читатель (глаза уже не те), но горжусь тем, что читательский билет одной из старейших библиотек страны — Театральной — у меня уже сорок семь лет. Руки начинают дрожать, когда дается право потрогать эти пожелтевшие от времени тетради и книги, где есть пометки Фонвизина, например. Это фантастика!
О театре отдельный разговор. Сегодня он находится в отчаянном поиске дальнейшего движения, метаниях даже. Много десятилетий мы развивались в русле великой системы Станиславского, которая и доныне не устарела. Но театр, как удивительно живое отражение эпохи, времени, людей, состояния общества, стремится к переменам вместе с ними.
— Если смотреть на общество через призму театра, то какое оно?
— Сосредотачивающееся, у меня такое впечатление. России время от времени требуется сосредотачиваться — не только на своих бедах, проблемах, но и на успехах, потому что из них тоже извлекаются уроки. Нам есть что вспомнить, к чему стремиться. Но на сегодняшний день этого маловато. Нужно все-таки более ясно определиться с целями и способами их достижения, не метаться судорожно из стороны в сторону и ни в коем случае не идти к расколу общества — по каким угодно поводам.
Раскол — это скверно. Самые трудные периоды для России, из которых она не единожды выходила с большими потерями, были временами смуты. Нам тоже выпало жить в такое время.
Я за свою жизнь много раз с восторгом кричал: «Нас 240 миллионов! Мы самые серьезные борцы за права угнетаемых!» Покричим-покричим, а потом бросим эту тему и занимаемся чем-то другим. А хотелось, чтобы шло накопление, но без подрыва основного фундамента, который есть наша история. Надо научиться вычленять те моменты, которыми можно и нужно гордиться, и те моменты, дела, за которые нам стыдно.
— Как избежать раскола в обществе, если по основополагающим вопросам проходит водораздел мнений? По обе стороны люди, хорошо знающие историю и культуру, апеллируют к тем же самым источникам с диаметрально противоположными знаками.
— Это называется неумением слышать друг друга. Сама культура диалога у нас оставляет желать лучшего. Люди вроде бы думающие и говорящие об одинаково оцениваемых вещах вдруг становятся непримиримыми спорщиками в определении путей достижения целей, которые, кстати, часто тоже совпадают. А вот пути расходятся. В театре я много раз слышал высказывание: «Единомышленники — не те, кто думают одинаково, а те, кто думают об одном». Вот как договориться, что мы единомышленники (иногда через яростный спор) — это тоже достаточно серьезный вопрос.
Нам не хватает по-настоящему свободных дискуссионных клубов, которые ставят целью изменить что-то в себе или поделиться некоей выношенной идейной конструкцией. Я очень люблю сомневающихся людей, потому что они способны к самосовершенствованию и к совершенствованию всего вокруг себя. Хотя есть случаи, когда сомневаться нельзя. Жизнь не может быть однобокой; так не бывает зимы без оттепели и весны без заморозков.
Я очень недоволен состоянием нашей журналистики, стремлением первыми выхватить что-то горячее, а потом, плюнув, забыть об этом как уже не важном. О грамотности авторов я уже не говорю… Где та беллетристика, которой славилась русская, российская, а затем советская журналистика?!
— Вы считаете, в обществе есть потребность в такой журналистике?
— Безусловно, есть. Но издателей заботят иные цели: спрос, тираж — важные, но далеко не главные. Не они отличают стоящую периодику от макулатуры-однодневки. У нас есть люди, которые настойчиво стараются быть услышанными и которым есть что сказать читающей публике. Тот же М.Б. Пиотровский, который еженедельно выступает не только по тематике музейной или художественной, но и размышляет категориями государственными. Свой угол зрения в освещении жизни и явлений чисто сакрального характера у журнала «Вода живая». Есть журналы профессиональные, к ним относится и «Защита и безопасность», многие размышления на его страницах носят именно государственнический характер, что очень важно. Как многообразна жизнь, так же разнообразной должна быть и периодика.
И не надо себя оправдывать тем, что всегда можно наверстать упущенное. Скажем, сейчас Даниилу Александровичу Гранину 98 лет. Нужно бегать и записывать за ним. Потому что этот очень непростой человек с ясной головой и трезвой памятью может еще много полезного сказать нам. Но 98 лет! Надо подбирать каждую кроху. И таких 90-летних плюс я вам назову множество только среди тех, кого знаю лично. Это академик Григорий Данилович Ястребенецкий — замечательный скульптор, создавший свою школу. Это Михаил Михайлович Бобров. Да, его не обходят вниманием, но почему-то расспрашивают только о Великой Отечественной войне. Но Михаил Михайлович на войне провел четыре года, а живет 94-й год. И никто не задаст этому мудрому, много повидавшему на своем веку человеку самые очевидные вопросы: каким ему видится наше сегодняшнее состояние и какие советы он бы мог дать. Не имея постоянной передачи ощущений между поколениями, мы теряем нечто очень важное.
Я всегда любил общаться с молодежью. Каждый раз часть своего отпуска трачу на поездки в молодежные лагеря. Больше всего в нынешних молодых людях мне нравится то, что они находятся в активном, порой яростном поиске. Взять и обречь их только на фанатские шумные мероприятия или только на сидение в читальном зале библиотеки или робкие походы на концерты классической музыки — это в корне неверно. Человек полноценен во всех бесконечных проявлениях своей личности. Каждый, вышедший за скобки общественной жизни, вычеркнувший себя из культурного процесса, — это потеря и для него самого, и для общества в целом.
— Все, о чем вы говорили, обычно делается усилиями отдельных людей, подвижников… А что, на ваш взгляд, могло бы сделать государство, особенно в условиях дефицита бюджета?
— Государству, мне кажется, надо хорошенько разобраться и четко определить, что именно полезно и стоит поддерживать. Большой площадной, уличный праздник — это замечательно! Стрелы салюта в небе — это здорово. Но, на мой вкус, не менее здорово было бы поддержать тот или иной серьезный журнал.
— Мне сейчас вспоминается невиданная посещаемость выставок Серова, Айвазовского. Сколько туда людей пошло!
— Вообще это должно быть модно, потому что народ, как ни крути, все равно поворачивает голову при слове «модно». Так это замечательно, что модно! Пускай идут на блестящих пианистов, скрипачей, художников, артистов.
Остается довольно-таки сложный вопрос оценки значимости того или иного художественного явления. В любом случае найдется человек с одним мнением и ровно напротив него человек с обратным мнением. Как научить их цивилизованно вести диалог? Что касается меня, то я всегда стараюсь проанализировать, в чем прав, в чем нет. Мне хватает сил собраться и попросить прощения, если я был неправ и убедился в этом. Стыдно упорствовать, если ты уже все понял и тупо стоишь на своем вместо того, чтобы изменить дальше тактику и поведение, может быть, скорректировав цель. Это тоже относится к вопросам безопасности нашего общества.
— Деятели науки сегодня сетуют на то, что обществу не хватает экспертного сообщества, способного отсеять важное от второстепенного. А в культуре как с этим обстоят дела?
— Думаю, что точно так же. Очень много формального в деятельности целого ряда экспертных и неэкспертных советов. Ломаю голову, как это можно изменить. У нас еще слишком преувеличена роль авторитетного давления. Сегодня нет ни одного органа исполнительной государственной власти, который не имел бы общественного совета. Но насколько руководители слышат экспертов, которые могут высказывать не те мысли, которые хотелось бы слышать? Цель создания любого общественного органа, на мой взгляд, — это найти то, на что можно опереться, даже если это противоречит твоему мнению. Мне когда-то отец повторял: «По болоту ходят по кочкам, на них опереться можно. Если это будет согласная со всем трясина — утонешь, и быстро».
Опираться можно только на сопротивление! Но создать, вырастить в обществе дееспособную культуру сопротивления очень трудно.
— Вы не хотите то, о чем мы говорили «в теории», применить к ситуации вокруг Исаакиевского собора? Будет странно, и нас не поймут, если, мы не коснемся этой темы.
— Как раз пусть эта странность удивит. Дело не во мне, а в соборе и коллективе людей, которые там работают. Это в советское время можно было получить вразумительный ответ: да, все будут устроены. Сегодня всякий человек должен сам думать о себе. С одной стороны, это хороший стимулятор, но с другой — беда большая, особенно для людей старшего возраста. Но их уход оборачивается потерей для всего общества. Есть целый ряд профессий, которым нельзя научиться по учебникам. Обязательно хирург должен постоять рядом с хирургом старше и опытнее. Актер должен получать представление о профессии из уст старшего актера. Точно так же и музейщики, и юристы, да кто угодно. Даже управленцы по-настоящему должны учиться у старших коллег. Это непрерывная кантилена — в обучении, образовании, становлении специалиста. А люди с большим опытом, профессиональным и жизненным, — они намагниченные, они к себе притягивают.
— Удивительно, что даже в 20-30 годы, при репрессиях, такая преемственность сохранялась, и последующее поколение принимало из рук предыдущего национальные духовные богатства. А сейчас, несмотря на вполне мирный характер событий, эта традиция утрачивается…
— Очень жаль, что этот посыл не является главенствующим для управленцев в культуре. Когда я сам стал управленцем, часто не знал, как и подступиться к проблеме. Я очень многому научился в свое время у Сергея Тарасова, хоть он был и моложе меня: он был моим непосредственным начальником как вице-губернатор, я его подчиненным как председатель комитета по культуре. До сих пор не могу смириться с его потерей. Я всегда любил старших в театре, потому что через них понимал срез того или иного времени. Без старших я никогда не стал бы входить с такой легкостью в Дом радио. Тот самый легендарный Ленинградский Дом радио. Не пройдя несколько раз рядом с Ольгой Федоровной Берггольц, я по-другому бы понимал трагедию блокады. Я бы понимал ее скорее на уровне слов, а не почти материального ощущения локтя рядом. Обязательно: человек — человек, мастер — ученик. Вот если бы мы хотя бы осознали эти вещи, научились слушать друг друга и интеллигентно вести спор, то и сами бы получили неоценимую пользу и гораздо больше смогли бы сделать для Отечества.
Беседовала Наринэ Карапетян
Свернуть статью
Автор: Карапетян Наринэ Марленовна Наринэ Марленовна