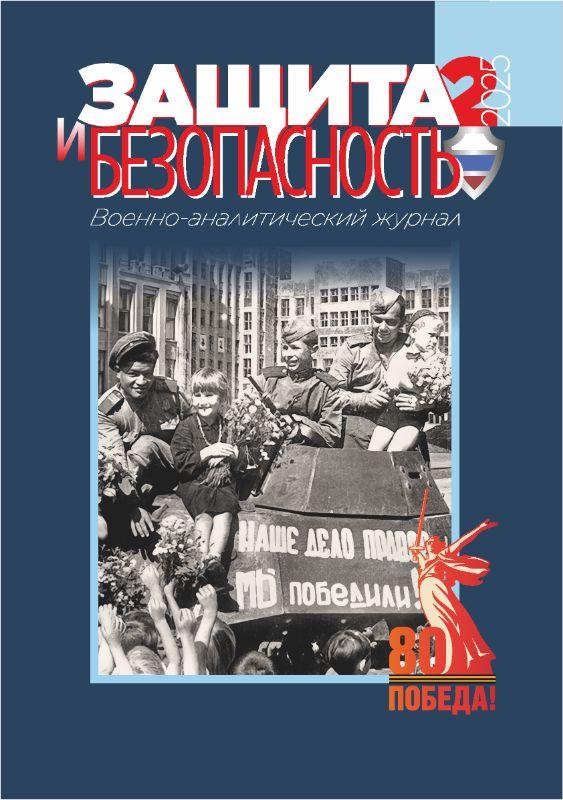Ленинградцы, пережившие блокаду, и воины Ленинградского фронта хорошо помнят генерала Симоняка – единственного военачальника времен Великой Отечественной войны, который никогда не отступал.
В начале войны Симоняк командовал бригадой на полуострове Ханко, героическая оборона которого вошла замечательной страницей в военную летопись. Несмотря на оторванность военно-морской базы Ханко, ее защитники не только успешно оборонялись от наседавших финских войск, но и проводили дерзкие десантные операции.
Шел третий месяц войны. Вокруг Ханко пенились и бурлили волны. Надвигалась зима. Немцы захватили Таллин, и поэтому Ханко как база, прикрывающая вход в Финский залив, утратила свое значение. Из Ленинграда, блокированного немцами, защитникам Ханко ничего не поступало.
Судьба бригады Симоняка зависела от решения командования фронта. Было только два варианта. Первый – это поход по вражеским тылам на соединение с войсками Карельского фронта. Второй – эвакуация на кораблях. Командование остановилось на втором.
В октябре на полуостров пришло несколько кораблей. Комбриг Симоняк отправил на «большую землю» артиллерийский полк. Оставшаяся бригада по указанию Симоняка «затихла». Ни одного выстрела, никаких передвижений личного состава. Финны решили, что русские ушли. Вражеские солдаты сначала осторожно двинулись в сторону наших позиций. По ним никто не стрелял. Финны поднялись во весь рост и смело пошли вперед. И тут на них обрушился уничтожающий огонь.
В ноябре эскадра балтийских кораблей вновь пробилась к ханковцам. Ее привел адмирал Валентин Петрович Дрозд. Командующий базой генерал-лейтенант Сергей Иванович Кабанов приказал Симоняку скрытно грузить бойцов, артиллерию, боеприпасы и продовольствие.
Последний эшелон кораблей ушел с Ханко 2 декабря, а на передовой еще долго раздавались пулеметные очереди. Стреляли не бойцы, а сделанные ими самострельные устройства. Отстреляв свой запас патронов, пулеметы взрывались. Обманули ханковцы финнов. Ушли скрытно и организованно, не замеченные врагом. Военный совет Балтийского флота получил радиограмму: «Все погружено. Все благополучно. При отрыве от противника потеряли одного бойца. Вахту Гангута закрываю. Генерал Кабанов».
От деревянной пристани отошел последний быстроходный катер. На его корме стоял Николай Павлович Симоняк. Была ранняя декабрьская ночь. Катер разрезал набегавшие с глухим рокотом темные воды. Комбриг всматривался в скрывающийся в морозном тумане берег. 164 дня сражалась бригада Симоняка, не уступив ни пяди обороняемой земли. Бригада покидала полуостров Ханко непобежденной, сохранив верность традициям своих предков – русских воинов, одержавших победу над шведами при Гангуте.
Эскадра совершила героический переход, и 4 декабря ханковцы прибыли на Кронштадтский рейд.
Из Кронштадта ханковцы совершили марш по льду в Лисий Нос, затем по железной дороге прибыли в Ленинград. Было решено собрать полк в районе Ново-Саратовской колонии под Ленинградом.
В студеный зимний день в бригаду Симоняка приехал член Военного совета Ленинградского фронта А.А. Кузнецов. Он вручил ордена и медали тем, кто отличился в обороне Ханко.
– Ну, теперь вы как на курорте, – пошутил Кузнецов.
– Это не наша вина, Алексей Александрович. Мы ехали воевать!
– Не горячитесь, товарищи. Всему свое время. Нам нужно иметь в резерве такое соединение, как ваше.
Получение орденов в бригаде отметили скромно. Помянули погибших. Подняли чарку за награжденных. Симоняк был мрачен. В списке награжденных не было его имени. Лишь в феврале 1942 года ему вручили Орден Ленина. Бригада ликовала: ведь награду командир заслужил вместе с ними – бойцами, которым предстояло решать новую задачу, поставленную перед ними командованием фронта: «Прорвать блокаду Ленинграда».
Решить эту задачу было нелегко. Весь 1942 год бойцы бывшей ханковской
бригады, вошедшей в 136-ю дивизию, командиром которой стал Н.П. Симоняк, участвовали в неудачных попытках прорыва блокады в районе Невской Дубровки.
Операцию готовил командующий фронтом генерал Говоров. Он постоянно бывал на Неве в новом месте предполагаемого прорыва.
К прорыву готовились не только солдаты. В четырех кабинетах второго этажа Смольного проходила военная игра, которая носила довольно длинное название: «Прорыв общевойсковой армией подготовленной обороны противника и форсирование реки в зимних условиях». Руководил игрой генерал Говоров, а в четырех кабинетах разместились «большие тройки» – в каждой командир дивизии, начальник штаба и начальник артиллерии. Именно эти дивизии и должны были наступать в первом эшелоне.
Штабная игра продолжалась семь дней. Когда комдив Симоняк покидал свой «командный пункт» в комнате Смольного, он еще яснее представлял себе огромный объем предстоящей операции.
Симоняк предложил: тремя полками форсировать Неву, прорвать оборону противника и нанести главный удар на правом фланге в направлении Рабочего поселка № 5.
Говоров согласился и дал указание установить на фронте наступления дивизии более девяноста орудий прямой наводки. Симоняк приказал каждую из разведанных целей закрепить за батареями, взводами, огневыми расчетами. Артиллеристы переселились за Неву, сличали фотопанораму левого берега, полученную из штаба артиллерии фронта, с результатами своих наблюдений.
Молодой ленинградский художник-декоратор, артиллерийский разведчик Василий Никифоров получил от комдива особое задание. Натянув холст на подрамник, укрывшись в траншее, он зарисовывал левый берег реки – опушенные инеем деревца и кустарник, сверкающие на солнце ледяные скаты, черные полоски амбразур дзотов, путаную сеть проволочной изгороди...
Никифоров затемно выбирался к Неве, возвращался в подразделение вечером, а ночами переносил свои наброски на четырехметровое полотно. Когда написанная красками панорама была готова, Никифоров отнес ее генералу. Николай Павлович был восхищен работой.
– Не знаю, как с точки зрения искусства, но как произведение разведчика картина просто великолепна, – сказал он. – Представим Вас к награде...
Никифоров сделал копии панорамы, их передали артиллерийским командирам. Художник обнаружил и зарисовал шестьдесят вражеских огневых точек.
Артиллерийские разведчики, забравшись на наблюдательные вышки, засекали вспышки орудий, блеснувшие из дзотов стекла стереотруб.
Артиллеристы должны были сопровождать пехоту в наступлении огневым валом. Первая стена огня проектировалась метрах в двухстах от берега, вторая – на двести метров дальше, и так на глубину в километр.
Операция готовилась тщательно, скрупулезно, но Симоняка не покидало чувство, что он еще что-то недоделал. Он снова и снова отправлялся в части, наведывался в штаб фронта.
Лед на Неве нарастал медленно. Саперы ежедневно замеряли его толщину. Симоняк покачивал головой: тонковат, не выдержит «тридцатьчетверок» – средних танков, которые придавались дивизии.
В инженерном управлении фронта ломали голову над тем, как переправить танки через Неву. Сначала инженеры предлагали: после форсирования реки пехотой и захвата ею плацдарма взорвать лед и навести понтонный мост. Говоров забраковал это предложение:
– Много нужно времени, сил, средств... Нельзя ли придумать что-нибудь попроще?
Попробовали вмораживать в лед тросы, армировать его, но опыт оказался неудачным. После долгих расчетов предложили новое решение: по льду проложить деревянные брусы двумя рядами, как рельсы, просверлить брусы и лед, пропустить штыри и соединить болтами. Мороз все скрепит, получится нечто вроде деревянно-ледяных балок, способных выдержать большую тяжесть.
Наступил долгожданный день.
... Артиллерийская канонада бушевала с неослабевающей силой. С правого берега Невы обрушивались на левый тысячи снарядов и мин. Они разносили немецкие укрепления, рвали проволочные заборы, поднимали на воздух орудия.
Симоняк прильнул к окуляру перископа. Левый берег, казалось, был совсем рядом. Отчетливо различались черные деревца и кусты, густые проволочные заграждения, обнаженные разрывами купола врытых в землю дзотов. Берег то и дело заволакивало густым дымом. В ушах стоял гул от могучего грохота орудий. Били одновременно легкие полковые пушки и тяжелые гаубицы. Немцы тоже открыли огонь. Однако могучий огневой удар подавил вражеские батареи.
Артиллерия утюжила немецкие позиции уже второй час. В морозном небе, яростно завывая, проносились самолеты, они сбрасывали свой смертоносный груз на левобережье.
... Еще задолго до боев Симоняк задумался: где ему устроить свой наблюдательный пункт? Командный пункт предполагалось разместить в лесу, километрах в трех от Невы. Если руководствоваться наставлением штабной службы, наблюдательный пункт надо устроить неподалеку. Но там лес, ничего не будет видно. Насколько метко поразят орудия прямой наводки засеченные цели – не определить. Как двинутся штурмовые группы и стрелковые цепи – тоже. А раз так – не сможешь руководить ходом боя. Симоняк размышлял: «Строить наблюдательный пункт в лесу, даже не в трех километрах, а в трехстах метрах от берега – нет смысла. Его надо оборудовать прямо на берегу». Он сам набросал эскиз наблюдательного пункта – небольшого тоннеля, врезанного в откос берега. Конечно, место было небезопасное. Симоняку говорили: «Ведь это под прямым прицельным огнем врага». Но он считал, что возможность видеть поле боя искупает опасность. Симоняк передал эскиз командиру саперной роты. Через десять дней комдив с нового НП рассматривал в стереотрубу левый берег Невы.
Чем ближе было начало атаки, тем больше волновался Симоняк. Как двинутся цепи стрелков через Неву, удастся ли им одним броском перемахнуть шестьсот метров ледяного торосистого пространства? Самый тяжелый шаг – первый шаг, когда солдат должен покинуть обжитую, словно согретую его теплом, его дыханием траншею, выбраться на открытый бруствер и стремглав, не глядя ни на что, ринуться вперед.
Небо прочертила серия белых ракет. Все шло строго по плану, так, как было заранее определено. На лед скатывались группы бойцов с автоматами, лесенками, с взрывчаткой на спине. Остановить эту лавину было уже невозможно.
Симоняк не отходил от перископа. Неровные цепи стрелков уже пересекли середину реки, группа бойцов, «досрочно» выскочившая на лед, приближалась к противоположному берегу.
Солдаты уже взбегали на вражеский берег, и в это время грянул залп «катюш». Нескольких человек повалило на снег взрывной волной. Берег заволокло густым дымом, который встал высокой черной стеной, скрыл деревца и кусты, разрушенные траншеи и вывороченные из немецких блиндажей бревна, бетонные плиты. Легкий ветер не сразу разогнал дымное облако. Сначала посветлело на правом фланге. Комдив увидел, что бойцы ворвались в неприятельские окопы. В перископ было отчетливо видно, как солдаты, замахиваясь, бросают гранаты, в упор бьют по фашистам из автоматов, бегут и припадают к земле, поднимаются и снова бегут.
По всей Неве, насколько хватало обзора, бежали стрелки, пулеметчики, саперы, связисты. Перепрыгивали через торосы, через дымящиеся полыньи. Неслись стремительно, не оглядываясь назад. Некоторые падали на лед, так и не достигнув близкого уже рубежа, их кровь впитывал сверкающий серебристый снег. Цепи катились волна за волной под звуки торжественно-величавой мелодии «Интернационала». Она возникла, точно по сигналу невидимого дирижера, с последним залпом «катюш». Полковые оркестры, разместившиеся в прибрежных траншеях, играли волнующий гимн нашей борьбы и наших побед.
Из полков, форсировавших Неву, начали поступать первые донесения. Батальоны ворвались в Марьино, разгромили гарнизон.
Поздним вечером Симоняк выбрался, наконец, в штаб дивизии. Вышел из блиндажа, жадно вдохнул колючий морозный воздух. С Невы доносились голоса, стук топоров – это саперы наводили переправы для танков и орудий. Мимо, поскрипывая полозьями, съезжали с берега сани, везли продукты в полки. Громыхали на выбоинах походные кухни.
Ночь прошла для Симоняка в бесконечных хлопотах, и к ее исходу он переместил свой командный пункт на левый берег Невы. Предстояло не только закрепиться на нем, но и продолжить наступление.
На седьмой день боев, 18 января в 9 часов 30 минут, на восточной окраине Рабочего поселка № 1 произошла встреча воинов Ленинградского и Волховского фронтов. Блокада была прорвана. Был освобожден Шлиссельбург, а к вечеру стало нашим все южное побережье Ладожского озера.
За мужество и героизм, проявленные во время прорыва блокады, 19 тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. 25 человек получили звание Героя Советского Союза. Среди них был и генерал Симоняк, названный народом «генералом прорыва».
Война продолжалась, и перед генералом Симоняком возникли новые боевые задачи. Ровно через год, 14 января 1944 г., он, командуя гвардейским корпусом, входящим в 42-ю армию, прорвал оборону немцев в районе Пулковских высот и тем самым положил начало снятию блокады Ленинграда. Теперь фронт с каждым днем отодвигался от города. Войска вышли на оперативный простор.
27 января над городом, который девятьсот дней и ночей не зажигал огней, взметнулись в небо фонтаны праздничного фейерверка. Ленинград салютовал войскам, освободившим его от вражеской блокады.
В начале лета 1944 года генерал Симоняк снова, как и в 1941 году, встретился с финскими войсками. Ему предстояло прорвать их оборону на Карельском перешейке в районе Белоострова. Операция прошла успешно. Хваленая линия Маннергейма была прорвана, и 20 июня над Выборгом взвилось алое знамя.
Заканчивался третий год войны. «Генерал прорыва» получал все новые и новые боевые задачи. Успешно прошла операция по освобождению Эстонии.
Симоняк получил новое назначение. Теперь он командовал 3-й ударной армией.
В январе сорок пятого Красная Армия двинула свои войска в наступление на огромном пространстве от Балтийского моря до южных отрогов Карпат. Соединения
3-й ударной армии, освободив Ригу, двигались во втором эшелоне войск фронта через Варшаву.
Предстояло сражение за Восточную Померанию, а затем движение в сторону Одера, где стояли армии центра фронта, которым командовал маршал Жуков.
Существует много мнений об отношениях Жукова и Симоняка. Сейчас не время разбирать конфликтную ситуацию. Извест-но, что Симоняк отправил шифровку в Ставку с просьбой перевести его на другой фронт.
– Сложный человек Жуков, – говорил Симоняк. – Умный, храбрый. Но мы с ним характерами не сошлись. Он покрикивать любит, оскорбить может... А меня ведь тоже мать характером не обидела...
Заканчивал войну Симоняк командующим 67-й армией.
После войны Симоняк вышел в отставку и жил в Ленинграде. Надо сказать, что отставка его была чисто формальной. Это скорее напоминало затянувшийся отпуск. Он не порывал связей с Вооруженными Силами, часто бывал в штабе Ленинградского военного округа, в воинских частях и в военных училищах. Внимательно следил за военной литературой. Маршал Говоров однажды, будучи в Ленинграде, сказал Симоняку:
– Все! Хватит хворать. Пора вернуться в армию.
Однако здоровье генерала не позволило это сделать. 20 апреля 1956 года Симоняк скончался. Похоронили его в Ленинграде на Богословском кладбище.
Сейчас, когда исполнилось 60 лет со дня прорыва блокады, просто удивительно, что в петербургских газетах, в статьях, посвященных этой дате, не упомянута фамилия генерала Симоняка. Давно не было и публикаций о легендарном «генерале прорыва».
Передо мной книга «Генерал Симоняк», изданная в 1971 г. Ее авторы М. Стрешинский и И. Франтишек подробно описали военную жизнь генерала Симоняка. Эта книга, безусловно, заслуживает переиздания. Мы благодарны ее авторам, т.к. основные эпизоды военной биографии генерала Симоняка для нашего очерка взяты из этой книги.
Об авторе:
Гаврилов Леонард Николаевич, полковник, кандидат юридических наук, профессор,
Санкт-Петербургский университет МВД России
Свернуть статью
«Генерал прорыва» (стр. 44-46)
Аннотация:
Ленинградцы, пережившие блокаду, и воины Ленинградского фронта хорошо помнят генерала Симоняка – единственного военачальника времен Великой Отечественной войны, который никогда не отступал.Читать всю статью