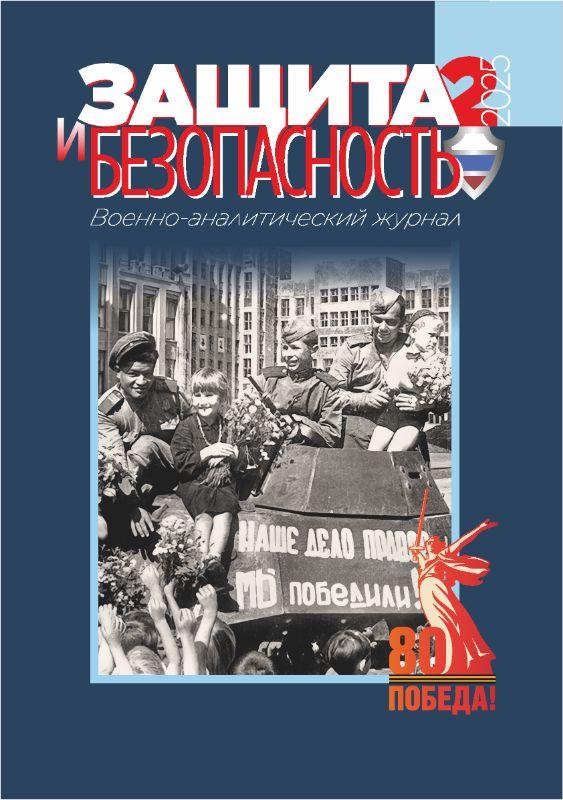Служба в Ленинградском военном округе запомнилась знакомством со многими замечательными людьми. В 70-е годы в Северной столице жизнь была насыщенной и интересной. Такого понятия, как бомонд, тогда не существовало, но самые яркие, талантливые представители партийного, производственного, военного руководства, художественной, научной интеллигенции общались друг с другом, образуя некий слой, который во многом определял общую духовную атмосферу города.
С Аркадием Райкиным, как и с многими другими артистами – Сергеевым, Дудинской, Кириллом Лавровым, – судьба свела меня в купе «СВ» «Красной стрелы». Под стук колес, отмеряющих расстояние до Москвы, мы проговорили допоздна. При всем своем обаянии и особой деликатности он показался мне каким-то невеселым. Не удержавшись, я спросил: «Аркадий Исаакович, отчего вы совсем не улыбаетесь?». – «Наверное, оттого, что слишком много смеюсь на сцене», – грустно ответил он.
А вот другой эпизод. Однажды ко мне заглянул добрый приятель, Саша Броневицкий, и вдруг предложил: «Михаил Васильевич, поедемте навестим Пьеху». «Как-то неудобно, – замялся я. – Мы с ней совсем незнакомы». – «Так я вас представлю – она моя жена». Сдавшись на уговоры, я отправился с ним к Эдите Станиславовне и нашел в ней очаровательную внимательную собеседницу.
– А вы интересный человек, Михаил Васильевич, – под конец аттестовала она меня.
Тогда и я решился высказать свою просьбу, потому что знал – промолчи я в этой ситуации, одна молодая особа у меня дома будет крайне недовольна:
– Эдита Станиславовна, честно говоря, я не отношу себя к горячим поклонникам эстрады, но моя дочка – ваша верная поклонница. Она была бы счастлива получить на память фотографию.
– С удовольствием, просто оставьте мне свой адрес.
Честно говоря, я не думал, что столь популярная и востребованная певица найдет время выполнить свое обещание. Но через несколько дней мы действительно достали из почтового ящика конверт с фотографией Пьехи и дарственной надписью Ирине Березкиной.
Я был коротко знаком с народным артистом СССР Кириллом Лавровым, который блистал в Большом драматическом театре у Товстоногова. Нас особо сблизило общее увлечение футболом, мы оба были страстными болельщиками «Зенита». Кирилл Юрьевич сам гонял мяч и лишь года за три до смерти перестал выходить на поле.
Мы с ним хорошо знали всех звезд футбола той поры – Михаила Бутусова, братьев Дементьевых – Петра и Николая, Валентина Федорова. При тренерстве Бутусова, на мой взгляд, игра была интересней, чем сейчас – более комбинационная, интеллектуальная, с хорошей долей импровизации. Когда я высказывал в их кругу какие-то свои замечания или соображения, Валя Федоров (мы с ним были еще и соседями) меня подначивал: «Давай, Миша меняться – ты вместо меня станешь тренером, заслуженным мастером спорта, а я за тебя, так и быть, – генералом».
Таких историй можно вспомнить множество, но, наверное, пора и честь знать.
Разумеется, самый широкий круг общения мне открывался по работе. Наезжали старые друзья, теперь тоже генералы Юркольский, Рудаков, Ржечицкий, Макагонов. Вспоминали общую службу, рассказывали о новых проблемах: все они стали командирами дивизий – кто в Волгограде, кто в Новочеркасске, кто в Новороссийске.
Виталий Александрович Рудаков позже стал начальником Главного штаба Сухопутных войск. Помню, нагрянул он в Ленинград, а я организую встречу. Подхожу рапортовать военным шагом, а он подначивает:
– Ногу-то поднимать повыше надо. Ты что, с ума сошел, Миша? Перед кем маршируешь – мы ж друзья!
Появлялись и новые запоминающиеся знакомства. Кого только мы ни принимали у себя в округе! Крупных советских военачальников, космонавтов, руководителей вооруженных сил дружественных держав. Помимо уже упомянутого министра обороны ГДР Гофмана, которого я затем не раз сопровождал на ленинградской земле, я знал министров обороны Чехословакии, Югославии, многих развивающихся стран. Как-то после приема министра обороны Румынии Ионицы, когда мы уже до того прониклись друг к другу, что перешли на ты, он, положив мне руку на плечо, говорит: «Как же, ты освобождал Румынию, а памяти о том не осталось! Жди, привезу награду от Чаушеску!». И представляете себе – привез! Не знаю, правда, за что. На память о встрече с вице-президентом Ирака у меня остался подаренный им кинжал дамасской стали. Запомнился визит Манекшоу – единственного в Индии маршала и поистине уникального человека. В его честь в округе, в особняке Сухомлинова, что на Садовой, давали обед, хозяйкой которого по установившейся традиции (супруга Ивана Егоровича Шаврова не любила официальных мероприятий) была моя Елизавета Федоровна. И справлялась она, по общему признанию, с этой ролью великолепно, сочетая скромность с достоинством и радушие с представительностью. Она же сопровождала жен высокопоставленных персон в их поездках по ленинградским достопримечательностям. Но об одной встрече хотелось бы рассказать подробнее.
В 1973 году посмотреть Ленинград приехал зять короля Афганистана командир корпуса генерал Сардар Абдул Вали. На мой взгляд, у него было, как минимум два неоспоримых достоинства: редкой красоты принцесса-жена и хорошее знание немецкого языка (на почве последнего мы и сошлись). Они поселились в особняке на Каменном острове у самого берега Невы, и я не раз бывал в их резиденции. Под конец они даже обедать без меня не садились, так по душе мы друг другу пришлись.
Однажды за столом разговор зашел об Афганистане. Я признался, что мало знаю об этой стране, а из ее государственных деятелей видел только Амануллу-хана. Генерал Сардар Вали очень удивился и спросил, при каких обстоятельствах это произошло. И я рассказал историю времен своего детства.
Шел 1928 год. Молодая советская страна в полной изоляции от всего мира строила новое справедливое общество. Одиночество на международной арене с лихвой компенсировалось массовым энтузиазмом строителей коммунизма. Мы верили, что рано или поздно весь мир пойдет по избранному нами пути. Поэтому известие о том, что СССР как государство первым признал Афганистан, было встречено всеобщим ликованием. Тысячи людей вывалило на Невский, чтобы приветствовать его руководителя Амануллу-хана. Ну и что, что он хан, зато он за нас, значит – друг! Эти чувства так переполняли меня, когда я выбежал из нашего двора, чтобы увидеть кортеж правительственных машин, что я как-то умудрился проскочить сквозь кордон красноармейцев и выскочить прямо перед машиной на середину улицы, крича: «Аманулла-хан! Аманулла-хан!». Ход кортежа застопорился. Аманулла-хан обернулся ко мне в своем открытом автомобиле и приветливо помахал рукой на прощание.
– Вот так состоялось мое знакомство с Амануллой-ханом, – закончил я свой рассказ.
– А знаете, я тоже знаком с Амануллой-ханом, – сказал генерал. – Он мой дядя. Сейчас он живет в Италии. Я обязательно передам ему ваш рассказ. Уверен, что и он не забыл той истории. Ему будет приятно.
Они звали меня отправиться с ними в Афганистан советским военным представителем или атташе. Но я ответил:
– Благодарю за приглашение, но вынужден отказаться. Я Востока не знаю, это на Западе я король бильярда.
***
Нет более укоренившейся привычки, чем привычка действовать, чувствовать себя постоянно востребованным. И вдруг на пенсии свободного времени оказывается целое море: отдыхай – не хочу. Тогда понимаешь, что отдыхать – тоже своего рода талант, которого у тебя нет, и даже охоты к нему не приобрел. Но русскому мужику, просто мы об этом забыли, всегда есть что возделывать – родную землю. Я уехал на родину жены, в деревню Пензенской области, и по меньше мере шесть месяцев в году проводил там. О том, что я генерал и разведчик, совершенно случайно узнал директор совхоза «Магистральный» Борис Иванович Ткачев. Очень деликатно он стал мне помогать в становлении нашего хозяйства, всегда приглашал на праздники, просил выступить к Дню Победы.
Он много хорошего сделал для своего края, односельчан: прокладывал дороги, строил жилье. А главное – работа была у всех. В «Магистральном» держали десять тысяч свиней, а в соседнем совхозе «Панкратовский» – аж сто тысяч! Сейчас не осталось ни одной. Все приватизировали. Фермеры, если выкармливают десяток свиней, уже считаются владельцами крупного хозяйства. Совхозное имущество давно растащили, мужики спиваются. Вот тебе и плоды перестройки: такое дело загубили господа реформаторы! Но вернусь в конец семидесятых.
Труд на земле дал мне очень многое: чувство самостояния, которое есть состояние духовное, так же как самостоятельность – физическое; ощущение принадлежности к единому родовому дереву, которое, в конечном счете, есть весь народ, наши общие предки. Теперь житейские трудности не угнетали меня. И удивительно: в самом безнадежном положении всегда приходила помощь. Богата Россия добрыми, отзывчивыми людьми.
Я рад, что такие люди встретились и на жизненном пути моего внука, Михаила. Он парень умный, работящий. Закончив Военмех, остался там на кафедре. Профессор, доктор технических наук Владимир Николаевич Усков, в чьи умные руки попал Михаил, говорил: «Пусть не торопится, пройдет то, что я сам прошел, – тогда станет классным специалистом». Под его руководством внук защитил кандидатскую диссертацию. Затем он перешел работать в НПО Специальных материалов, которое производит разнообразные средства защиты – бронежилеты, шлемы, щиты, противовзрывные контейнеры, нелетальное оружие и многое другое. Там Миша продолжил научную деятельность, работает уже над докторской диссертацией. И с наставником ему снова повезло – им стал генеральный директор объединения, профессор, доктор технических наук, лауреат многих государственных премий Михаил Владимирович Сильников. Внук нас познакомил. Этот еще молодой по годам человек произвел на меня глубокое впечатление не только силой характера, государственным мышлением и недюжинными организационными способностями, но и заботливым отношением к нашим солдатам, бойцам иных силовых структур.
– Когда приходит очередное известие, что наш бронежилет спас жизнь еще одному человеку, понимаешь, для чего живешь на свете, – признался он.
«Ради таких людей можно постараться», – учил я внука. Кстати, уговорил меня взяться на написание этих записок именно Михаил Сильников. Не знаю только, оправдал ли я его ожидания.
Не буду загадывать, как сложится дальше жизнь внука. Когда-то до войны почти все мои сверстники пошли учиться в Военмех, убеждали: «Айда с нами, Мишка. Вдруг война начнется – ты после военного училища первым под пули попадешь». В блокаду все они сложили головы на Пулковских высотах, а я прошел войну до конца. Без ропота принимать все, что уготовила судьба, в любых обстоятельствах хранить человеческое достоинство, не изменять своему призванию – в этом, по-моему, и проявляется человеческая мудрость. Такой мудрости я желаю своему внуку.
Свернуть статью
Встречи на невской земле (стр. 36-37)
Аннотация:
Заключительная часть воспоминаний генерала Михаила Васильевича БерезкинаЧитать всю статью